Political Background and "Anatomy" of the Show Trial against Taij Eregdendagva, Egüzer Khutagt Galsandaš and others
The scientific investigation of Soviet state terror in the 1930s almost always and almost inevitably leads to the question why this terror existed at all. It seems senseless and unpredictable and therefore completely incomprehensible.
Udo B. Barkmann (Berlin)
The scientific investigation of Soviet state terror in the 1930s almost always and almost inevitably leads to the question why this terror existed at all. It seems senseless and unpredictable and therefore completely incomprehensible. After all, it devoured, among others, above all those people who had made the revolution and were considered the backbone of the party. To this day, research does not provide truly conclusive answers to the core questions. It rather reflects a diffuse picture. Apparently, the focus was only on Stalin, who was an absolute ruler with concrete power interests, subjective moods and deep mistrust of his own surroundings. But we know from rulers like the North Korean Kim that they too obey internal and external influences and constraints, are shaped by personal and social events and are carried by certain groups of people. In this respect, it makes sense to shed light on the internal and external situation of the concrete country, its eternal and current interests and the political and economic ambitions of the ruling class, if one asks about the reasons for terror. The Stalins, Mao Zedongs and Kims were products of their social conditions. They came to power in a specific situation. Their activities, however, often brought about a profound and lasting caesura that sometimes enabled the country to take a new direction in its development. Thus China perhaps needed a Mao Zedong so that the "Chinese dragon could shed its skin" and free itself from any foreign influence.
Political background of the show trial
Political Fragility in Siberia
CPSU(B) General Secretary V.I. Stalin and his Politburo had placed Mongolia more in the focus of their power politics during the second half of the 1920s. The best indication of this was the formation of a "Mongolian Commission" within the Politburo of the CPSU(B). There were good reasons for this, both internal and external. The most important reason was undoubtedly that the security strategies of both tsarist Russia and the Soviet Union had assigned an important buffer function to Outer Mongolia for the protection of Siberia and the Trans-Siberian Railway. Moreover, the Bolsheviks also used Outer Mongolia as their political-logistical base during the 1920s to spark revolution in China. It should not be overlooked that the USSR needed the external protection of Siberia primarily because the political power of the Soviets during the 1920s was more or less secured only in the cities of Siberia, where only 13 percent of the Siberian population lived. And there, too, it was ultimately guaranteed above all by a flexible, hard-hitting military and security apparatus.
In contrast, there was little change in the agricultural areas of Siberia. The Siberian peasants rejected the Bolsheviks and sometimes even actively resisted them. Lenin's "New Economic Policy," which began in 1923 and had substantially liberalized the agricultural market, brought about an increase in the area sown and the yield of grain in Siberia. Livestock also increased until 1926.[1]The increasing prosperity in the Siberian villages resulted in a strengthening of the so-called kulaks, which the CPSU(B) defined as its main enemy in the agricultural population of Siberia. These may have been the reasons why the XVth Party Congress of the CPSU(B) (2-19 December 1927) decided on the forced collectivization of agriculture (the fight against the "kulaks") and why Stalin undertook an extended inspection tour of Siberia from 15 January to 6 February 1928 to stimulate industrialization there (Magnitogorsk). Stalin and his inner circle of power were convinced that not only did peasant society need to be radically changed socially, but that Siberia also needed to be industrialized. In short, the question of power in Siberia was far from being resolved in favor of the Bolsheviks. This fact made the Soviet Union east of the Urals unstable and vulnerable (even in today's Russia, the fragility of Siberian society is a factor that is worrying from a Russian perspective).
Confrontations with China
External developments, especially in China, also made the Soviet leadership uneasy. The assassination of Zhang Zuolin by Japanese officers in June 1928 had changed the internal balance of power in China and strengthened the Guomindang government under Jiang Jieshi. Manchuria was now placed under his government. Beginning in 1928, Jiang Jieshi put the USSR under strong pressure with the "Mongolian question" and even threatened to break off relations. The bilateral disputes even led to military skirmishes between the Soviet Far East Army and the Chinese Guomindang troops who had occupied the East China Railroad in 1929. In other words, the Soviet Union felt that vital segments of Siberia were threatened by this development.
In addition, the Chinese government had imposed a trade embargo on Mongolia in 1928. In 1928 alone, 900 Chinese traders were prevented by the Chinese administration from crossing the Zamyn Üüd border crossing. Mongolia was thus cut off from the Chinese market, with vital goods no longer reaching its already poor market. The supply bottlenecks, which the Soviet Union itself was unable to compensate for, could not be overlooked.[2]The mood among the Mongolian population deteriorated. Almost at the same time, the Guomindang government began making considerable concessions to inner-Mongolian princes. It held out the prospect of a general concession in Mongolian and Tibetan affairs.This signaled to many in Mongolia, especially members of the princely and clerical classes, who were directly threatened by expropriation, that China might have been the politically better choice for them in comparison with Soviet Russia.[3] The fact that in 1930 the Chinese government gathered 40,000 soldiers under the banners of the western and eastern Sunid (Shilingol chuulgan) led the security organs in Ulaanbaatar to conclude that a military attack on Mongolia was imminent.[4]
Japan on the lookout
In the background there was also an omnipresent lurking presence of Japan. The Soviets registered with growing nervousness that the Japanese secret service Tokumukikan, founded in 1917, had become increasingly active in Inner Mongolia and that it was also beginning to extend its feelers to Outer Mongolia. His agents Morichima and Kakukabashi, for example, traveled through all the banners of the Shilingol Chuulgans and also held in-depth talks with the influential Inner Mongolian prince De Wan.[5]De Wan was an important key figure for the Japanese, and not only because of his influence on the Inner Mongolians.The Japanese were aware that De Wan and the Panchen Lama, who lived in Inner Mongolia, had a "bond between student and teacher". The high spiritual authority of the Panchen Lama meant that he was also able to rely on the invisible networks of Lamaist monasteries in Inner and Outer Mongolia and Tibet. The Lamaist religion thus represented an influential player throughout the region, whose networks naturally also permeated Soviet-controlled Mongolia and reached as far as Soviet Buryatia. Just how great the Panchen Lama's influence on the Mongols actually was was shown by his public prayers: Thus 170,000 Mongols gathered in inner-Mongolian monasteries in April 1928 and 70,000 Mongols in April 1929 to participate in his prayers. Of course, Mongolians from the Mongolian People's Republic (Outer Mongolia) also took part in these prayers. No one could prevent them from attending. The borders were open. The great influence of the Panchen Lama on the Mongolians (especially the Mongolian People's Republic) was also of special importance to the Japanese secret service Tokumukikan because it was able to offer him the opportunity to set in motion its anti-Soviet and anti-China pan-Mongol simulation games among the Mongolians. But the Guomindang government also pursued ambitious intentions toward the Panchen Lama with regard to the Mongols and Tibetans. It therefore granted the Panchen Lama various privileges, such as the establishment of its own representation in Nanjing in 1928. The Soviet advisors in Mongolia generally regarded the Lamaist religion, its clergy and monasticism as a "state within a state" that, in their view, had to be contained and liquidated. The GPU instructed its comrades in the Mongolian Office of Internal Security to proceed consistently and at high speed in this direction. A special task of the Office of Internal Security was undoubtedly to enforce the Panchen Lama's environment with its own spies.
Balancing act exercises of the "Mongolian Commission" of the Soviet Politburo
The "Mongolian Commission" at the Politburo of the CPSU(B) received a constant flow of information about these threatening developments from its official and unofficial channels. It evaluated the information under the aspect of 1. the security of Siberia, 2. its world-revolutionary goals in China and 3. the strengthening of the state power of the Mongolian People's Republic. The commission was concerned that it had been forced to register serious disturbances in Mongolian-Soviet relations since 1926-1927. In his reports, the USSR's permanent representative in Ulaanbatar, P. M. Nikiforov, repeatedly pointed out that members of the Mongolian leadership were beginning to distance themselves from him. Minister of Economics A. Amar, for example, pursued an "extremely hostile course toward the economic institutions of the USSR," he reported. The "climax" was reached, however, when the MPRP leadership had even refused to send new instructors to the Office of Internal Security in 1926. After all, the Office for Internal Development was an appendix of the Soviet GPU in the People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD). This authority was the "sharp sword" of the Soviet Union in Mongolia. Stalin and his Politburo knew no quarter in such matters of power.
Nevertheless, the Soviet Union had to act cautiously with regard to China, since it had recognized Outer Mongolia "as an integral part of the Chinese Republic" in an agreement with China in 1924. In this respect, the triumph of Comintern representative Amgaev in the local contest between the Comintern and the official USSR representation in Ulaanbaatar may well have been intended by the Soviet party leadership at the time. The CPSU(B) leadership wanted to push through a new political line in Mongolia with the help of the Comintern and a newly appointed party and state leadership. However, the Communist International (Comintern) offered the great advantage that the Soviet state was able to distance itself from its activities at any time on the grounds that it was an international organization and that it simply did not have it under control. Diplomatic considerations toward China thus certainly played a certain role in the readjustment of Mongolian domestic policy. However, they also determined the radicalism and dynamics of the political process that Moscow intended to make irreversible in Mongolia.
Radicalization of the Mongolian leadership
The Soviet advisers needed in the new Mongolian leadership by no means the representatives of the national democratic orientation, but above all willing, as uneducated and politically inexperienced puppets as possible. The representatives of the "Land faction", which Comintern representatives Amgaev had already been putting in place for some time and with wise foresight, were particularly suited for this purpose. "They had no education and no social prestige, but they endeavored to compensate for these shortcomings with radical leftist zeal and political intrigue.”[6]
During the VII Congress of the MPRP (23 October-11 December 1928), the representatives of the national-democratic orientation were discredited as "rightists" and members of the "land faction" were placed in leading positions. In all important functions, the staff was changed. The party congress had also decided to confiscate the ownership of livestock belonging to the secular and spiritual feudal families and monasteries, thus depriving them of their economic basis. An accommodating policy was to be pursued towards the simple lamas. The reincarnation of the rJe-btsun dam-pas and other high rebirths, on the other hand, was prohibited. The MPRP intended to provide economic support for the poor lamas in their transition to secular status and to rigorously deprive the Lamaist clergy of the economic foundations of its political and religious influence. Months later, on July 13, 1929, the presidium of the CC of the MPRP took the decision to begin confiscating the assets of the secular and spiritual feudal lamas, in accordance with the party congress decision.[7]Since this decision affected 1,136 persons[8], resistance was to be expected. While serious resistance could hardly be expected from the princes because of their limited networking, the situation was very different in the case of the Lamaist clergy. The spiritual networks existing between the monasteries, the exposed, influential position of the seal-bearing rebirths, their networking to Tibet, to Buryatia, to Inner Mongolia, to the Panchen Lama, even to China, and possibly also to Japan made the Soviet advisors acting in the background act cautiously. The fact that A. Amar had once pointed out to Nikiforov that about 90 percent of the functionaries themselves were Lamaist believers also made her reflect.[9]
Measured in terms of the existing threats, the eastern Khan Khentei Uulyn Aimag and the southern Dar'ganga region with its border areas facing China were of particular sensitivity. A military attack on the Mongolian People's Republic was actually only really conceivable from this direction. For this reason, from the Soviet perspective, it was important to liquidate all possible sources of resistance in the border areas. These included the monasteries and especially the large and famous monasteries such as that of Egüzer Khutagt, which were not only spiritual but also economic centers with cross-border influence.
The "anatomy" of the show trial
The goal of the Soviets was to secure and consolidate the Mongolian state power, which they controlled almost 100 %, in the border regions as well. The Soviet advisors therefore decided to set examples that would make the Mongolian state appear stronger than it was and above all instill fear in the population. Show trials, as in the European Middle Ages, when executions were still a great, but also frightening "people's pleasure", were a particularly effective means of achieving this. It was a matter of finally settling accounts with the representatives of the old order, but also of liquidating their influence and cross-border networks in eastern Mongolia.The choice was not difficult for the Soviet advisers. They knew what they wanted, but they did not let themselves be "put in the cards. Then they let the arrests suggest to the public that they were investigating in a different direction, even though they had long since committed themselves to the real targets. In this specific case, they had selected the well-known representatives of the clergy, Zayaa Pandita Jambaceren, Egüzer Khutagt Galsandash, Manzushir Khutagt Tserendorj and Dilav Khutagt, as well as the Mongolian diplomat Gün Gombo-Idshin, who is well connected in the Tibetan hierarchy. And even among these people they had, for good reason, set a wrong track.
The trial of Zayaa Pandita Jambaceren
The Office of Internal Security arrested Zayaa Pandita Jambaceren on October 22, 1929, who, as the 6th rebirth, was one of the Khutagts with the seals and thus held a high position in the Lamaist hierarchy of Mongolia. The accusations were in part very vague. For many years, he had exploited the poor, secretly resisted government policies, and written and disseminated poems that carried the idea of inviting the Panchen Lama to Mongolia.The show trial against Zayaa Pandita Jambaceren, which lasted barely four hours, took place on February 16, 1930, in a building south of what is now Süchbaatar Square.[10] The public response to the trial was great, and many people were waiting in front of the courthouse to attend the trial as spectators. Eyewitnesses reported that young women in particular wanted to take part, since young Zayaa Pandida was also considered one of the most beautiful men in the Khalkh.[11]The trial ended, as was to be expected, with a death sentence that shocked the public and was carried out only a few days later. Today we have no concrete knowledge of public opinion about the show trial itself, but we can assume that the majority of the faithful Mongolians did not like the fact that a seal-bearing high rebirth was executed in her earthly 25th year of life. But the public may also have been aware that behind the process were Soviet advisers, which the Mongols simply could not cope with.
The "Criminal Case of the 38 around Eregdendagva"
The Soviet security advisers took such public sensitivities into account when staging the big show trial that took place only a few months later. Not a well-known high lama, but the completely unknown Tajž Eregdendagva gave his name to the "Criminal Case of the 38 around Eregdendagva" ("Эрэгдэндагва нарын 38-н хэрэг"). At first it seemed that there was also no main accused who belonged to the Lamaist clergy. Eregdendagva, who was arrested in May 1930, was accused of having written a letter to the government of China and the Panchen Lama on behalf of certain nobles and grand lamas, in which he is said to have proposed that Mongolia be made a province of China and the Panchen Lama its religious leader. Whether this letter was real or fictional, whether it was sent or not, is not really clear from the information available to us. Dilav Khutagt at least reported that Eregdendagva is said to have already been on his way to China for one day when he was arrested by the Internal Security Bureau.
Who was Eregdendagva? We know that he came from the immediate home of Egüzer Khutagt. He and Egüzer had known each other for a long time. Egüzer later mentioned during interrogation that there was a personal "teacher-student relationship" between them. It is said that Eregdendagva had designed a "reading book" for students in the lower classes and handed it over to the Ministry of National Enlightenment. But the ministry rejected it on the grounds that it would "poison the children of the new generations with old views," which offended him deeply and lastingly. The insult seemed to continue. Nevertheless, Ergedendagva as a person was in the hands of the experienced investigators of the Ministry of Internal Security like well-moldable soft wax. Because he had embezzled money in 1927 as clerk of the Ministry of Finance, he had been sentenced to 3 years on probation (3 жил тэнсэн харгалзах ялаар шийтгүүлсэн). His probationary sentence had not yet expired at the time of his imprisonment. He must have been in an extremely desperate situation. It was quite clear to him that he had now been accused of a serious counterrevolutionary crime for which there could only be the death penalty. To avoid this, he was certainly willing to do whatever the investigators required of him. Although we do not know for certain, we may assume that the list of "interesting accomplices" was given to him by the Soviet advisers of the Internal Security Bureau. Of course, this list was supplemented by names he had mentioned during the interrogations. Tangatyn Ayuush, who had worked with Eregdendagva earlier in the Ministry of Finance, was one such example. Questions such as "Who did you meet with?" were directly aimed at recruiting names, whether or not the persons had anything to do with the accusations. The people concerned automatically became suspects, without perhaps having anything really to do with the "crime". The fact that the investigators staged Eregdendagva as the "head of the conspiracy" at least once before pointed to the fact that the "crime scene" was connected to the Khan Khentei Uul Aimag, where Egüzer Khutagt and Gün Gombo-Idshin were at home and active.
Arrests
The preparatory investigations of the Office for Internal Security apparently began as early as 1929. On August 23, 1929, the head of a structural unit of the Office, D. Luvsansharav, sent a secret report on the conditions in the Barga region and Inner Mongolia to the secretary of the Small State Assembly, D. Demberel. The Guomindang government had resettled a large number of Chinese to these areas. Each Inner Mongolian family had to take in 2-3 Chinese, it said. At the same time, the number of Chinese soldiers stationed in Hailar seemed to have increased greatly. The Panchen Lama, after eleven days of sermons in the Vangijn Khüree of Sunid Choshuu, accompanied by a large number of Chinese soldiers, continued on his way west, it was reported. At the end of the report, Luvsansharav referred to the need to bring Egüzer Khutagt from the troubled border area to Ulaanbaatar.[12]The facts mentioned in the report suggested concrete dangers for the East Mongolian border areas and put the investigators under time pressure.
The focus of the investigators was directed to the monastery "Önö Öglögt" located in the Erdenetsagaan Uul Banner, which was known as the monastery of Egüzer Khutagt and where the reincarnations Damdin Bishrelt and Khalzan Shireet also resided. The Department of Internal Security considered the great, even cross-border influence of Egüzer Khutagt on the region to be extremely problematic.Egüzer seemed to confirm this impression during the interrogations. The interrogation protocol states: "Who do you know of the princes of the Barga and Inner Mongolia? Answer: I can hardly count the people I know of the princes of the Barga and Inner Mongolia. The princes of the Baruun banners Khuuchid and Üzemchin I know almost all of them. There have been many times when I exchanged letters and gifts with the Khutagts of the cities." To the 11th question: "When did you consort with the Panchen (Lama)" Eguzer answered: "It was not long ago that I consorted with the Panchen. The answers made it clear what an influential position Eguzer Khutagt actually held in the border region. But were they really Eguzer's answers? Added to this, of course, was the unsaid fact that Egüzer had been honored by the Manju emperor in 1902 with the title of a "Khutagt Chamba" and a jade seal and had been appointed minister for the southeastern border regions by Bogd Gegeen in 1913. By the end of 1915, Egüzer had even been taken hostage by Chinese troops. He had to be recalled by the Chinese government on behalf of the Bogd Gegeen government of Setsen khan Navaanneren. Therefore, Eguzer was surrounded by stories that strengthened his public reputation. There were also many legends about his monastery, to which the Li-fan-yuan had given the honorary name "Önö Öglögt Süm" on behalf of the Manju emperor in 1787.
The Office of Internal Security began with the arrests in May 1930. The first victim was Eregdendagva himself, who was immediately subjected to massive interrogation. According to the incomplete information available to us, at least 20 people were arrested by the end of July 1930, who were locked up in a special prison of the Office of Internal Security under catastrophic conditions. That is, the rest of the suspects were arrested in August 1930. Looking at the initial accusations, some things seem almost incomprehensible because of the banality. But the investigators also had "plan conditions". They therefore arrested a certain number of people from the Eregdendagva area. They projected the scenario of "conspiracy" into the statements only in the course of the investigation. Some of the arrested persons, such as the Burkhanch Lama Damdin fulfilled the "function of a hinge", which first established the relations of the "conspirators" to Egüzer Khutagt. It is striking that the work of the investigators in no way reminds of a criminalistic approach, but rather of the kind of inquisitors. Both in the interrogations and during the trial, the questions were formulated suggestively. The aim was not to reconstruct the course of events using criminological methods, but rather to make quick confessions of political and other guilt. The protocols also reflect the inner distress of the interviewees. Two examples from the interrogation of Gombo-Idshin: "Question: What crime do you think you committed? Answer: I knew a person who committed an offence related to politics and I did not report it to the authorities... Question: Do you support the decisions of the 7th and 8th party congress? Answer: "I support the resolutions of the 7th Party Congress. Although I have not seen the resolutions of the 8th Party Congress, I support them.”[13]
Arrest of Egüzer Khutagt
The Office of Internal Security did not arrest Egüzer Chutag like the other accused. Egüzer's high reputation in his border region did not permit such a clumsy action. One had to expect protest and perhaps even unrest among the border population.The office therefore instructed the secretary of the Small State Assembly, L. Demberel, to travel to his monastery and invite him to Ulaanbaatar "because of the troubled situation in the border region. On the spot, Demberel, behind whom stood the always quietly smiling Soviet advisor Kanaev, even suggested to Egüzer that he should settle in Ulaanbaatar in the palace of the late Bogd Gegeens and communicate with the faithful there.[14]The invitation was formulated very emphatically. So Egüzer traveled to Ulaanbaatar together with Demberel and the entourage from the Internal Security Office. Once there, he was detained in an object of the Office of Internal Security, but not locked up. It is possible that he was first suggested that he would only have to appear as a witness in an important trial. The fact that the Office of Internal Security could simply assign this task to the Secretary of the Small State Assembly showed both his position of power and the powerlessness of the Soviet-controlled Mongolian state organs. Soon the first interrogations also began, conducted by Soviet advisors Borisov and Cedypov and the Mongol Galindev. The interrogations still presented themselves as "informal talks," although the questions were already formulated very emphatically. Certainly Egüzer soon realized in which direction the investigators were trying to push him.
Gombo-Idshin
Another important figure in the investigative puzzle of Soviet advisors was undoubtedly Gün Gombo-Idshin, who himself was a Taij from the "golden clan" Chingis Khaans (алтан ураг). In the years 1913-1919, he was considered one of the most important officials in the War Ministry of the Bogd-Gegeen government. After the formation of the People's Government, he worked as "Minister for the Recruitment of Soldiers for the Pacification of the Eastern Borders" in 1921 and as Minister for the Pacification of the Borders in the Кhovd in 1922-1924. In 1921 D. Dogsom worked at his side, who now faced him in the 1930 trial as a member of the court. After working in the Ministry of Justice and Foreign Affairs, Gombo-Idshin was appointed Mongolia's ambassador to Tibet in December 1925, where he had served from September 1926 to October 1927. A year later, in the fall of 1928, the Office of Internal Security took Gombo-Idshin into custody. He was accused of having been involved in efforts to "reincarnate the 9th Bogd. He was sentenced to 1 year and 6 months imprisonment in spring or summer 1929. This means that he was possibly still in prison when he was also accused of participating in the "Crimes of Taij Eregdendagva". Which, by the way, was a very common procedure at that time!
According to the incomplete information available to us, more than half of the arrests took place between May and July 1930, others in August, i.e. shortly before the trial. Since the nature of the court verdict was in any case clear to the counselors, they did not need a longer period of detailed questioning before the trial.
Trial
According to the text of the verdict pronounced on September 28, the trial had begun on September 15, 1930.[15]Dilav Khutagt, on the other hand, referred in his memoirs to the fact that two defendants were questioned per day of the trial, which, with 38 defendants, suggests a trial period of 19 days. The trial had been prepared in a propagandistic manner. Posters posted in Ulaanbaatar referred to the court meeting as an event of political significance that was to take place publicly at the "Place of Public Pleasure" (ардын цэнгэддэх газар). The chosen location gave reason to expect a high level of participation by interested persons.The "courthouse" was surrounded by a dense cordon of armed soldiers. We know from the memoirs of Dilav Khutagt that at the beginning of the trial political personalities such as Prime Minister Ts. Jigjidjav, party chairman P. Genden, the head of the Office of Internal Security B.-O. Eldev-Ochir, Minister of War G. Demid and the CC department head D. Luvsansharav appeared, which gave the trial a special significance.[16]The trial was led by a certain Mend, the court included Ölziibat, Amar, Dogson and Erendavaa. Yadamsüren worked as a state prosecutor. Tsendsüren and Chuluunbat appeared as public prosecutors. In order to save the face of a court meeting, five defense lawyers also took part. The Soviet advisors had not renounced a smug psychological calculation. The new high officials from the "land faction" sat relaxed in the front row as spectators greeted by everyone, while people like Amar and Dogsom, who had just fallen politically out of favor as "rights", sat in the presidium as members of the court. Both were aware that in this function they had to agree to death sentences and long prison terms for innocent people. Both also understood, however, that their further political careers and perhaps even their physical survival depended on not making a mistake in this fatal situation. Their following life showed clearly what they had finally decided for.
We do not know much about the people who were supposed to "administer justice" in this trial. Since the names of those concerned were given without their father's name, their determination is difficult. The fact is, however, that none of the members of the court required legal knowledge. The trial was a political process, the outcome of which had already been determined by the Soviet advisers. In this respect, the biography of the so-called "state prosecutor" could suffice to give an idea of the court's incompetence. The "state prosecutor" was a certain "Yadamsüren" who had apparently already been a member of the court in the trial of Zayaa Pandita Jambaceren. This would be Möögnii Yadamsüren, who had become chairman of the Supreme Court from April 1930, having previously worked as a clerk, consultant and secretary to the government. It is also possible that it was Dendevijn Yadamsüren, who was at that time the commissioner for questions of monasteries and lamas in Khan Khentei Uul Aimag and the authorized representative of the Ministry of Internal Affairs in Aimag. Both had one thing in common. They had no knowledge of law, but the "state prosecutor" had to distinguish himself above all by radical political intransigence and not by knowledge of the law. A few years later, incidentally, both themselves became victims of terror.
Almost the entire course of the trial was accompanied by propaganda campaigns demanding harsh punishment for the accused. On September 14, 1930, the members of the MPRP and MLRY cell of the 4th Khoroo and the police officers of Ulaanbaatar called for this, and on September 15, the commanders and political workers of the Red Army barracks in Ulaanbaatar and the soldiers' assemblies of the soldiers. On September 16, the meeting of the urban poverty followed, on September 17, the meeting of the pioneers, and on September 21, the meeting of the members of the MPRP and MLRY of the Ulaanbaatar Ironworks. The fact that, along with the pioneers, children were also abused for these campaigns reflected the whole immorality of the trial scenario.
Court interrogation of Egüzer Khutagt
On September 16, Ezüger Khutagt was heard by the court. The questions revolved around Eregdendagva and his "crimes" and to what extent Egüzer had knowledge of them. Egüzer denied all complicity. Other questions concerned his relationship with the Princes of Barga and Inner Mongolia, as well as with the Panchen Lama, Ungern-Sternberg, and what relations he would have with China. How often he was in China and whether he had received gifts from China? Most questions, however, tried to fathom his political attitude. In this case, it is sufficient to take the following quotations from the court transcript: "14th question: What do you think about the confiscation of feudal property? Answer: I consider the confiscation of feudal property to be good. Question 15: How did you view the confiscation of your own property? Answer: I gladly had the assets confiscated... 19th question: The present government is a government that defends whose interests? Answer: Although I don't know exactly whose interests the government is defending, it will probably be a government that defends the public interest. 20th question: Do you consider the government of the previous autonomy and Manchu period as a good or bad government? Likewise, was the government of that time a government defending whose interests?
Answer: I do not know whether the Manchu or autonomy governments were bad or good. They went down because they did not manage to do anything proper and were not able to adjust the state. But the work of the princes was not good. Question 21: What is your opinion of Mongolia's independence? Answer: It is good that Mongolia has become independent. Although I do not know well whose benefit the government defends, I think that this is a government that defends the public benefit... 29th question: What would you say about the government of China and the government of Russia? Answer: I heard that it is quite different. However, it (China) has not yet achieved government stability. However, it seems to me that Russia has a similar government to ours. I don't know if it has become it or not, the people will know it.”[17] From Egüzer's answers, one could conclude that he did not want to incriminate himself, but he was also not ready to agree with the suggestive political attitudes of the questioners. But where do we get the certainty that these protocols even reflect what was said?
Court decision
The court announced its decision "in the criminal case of the 38 persons with notable persons such as the guilty Eregdendagva and Galsandash" on September 28, 1930 "in the name of the Mongolian People's Republic. While originally Eregdendagva alone gave his name to the criminal case, the name Galsandash was added (улс төрийн хүнд холбогдол бүхий ялт Эрэгдэндагва, Галсандаш нарын зэрэг нэр бүхий 38 тооны хүмүүс). Significantly, however, only the name Galsandash was used, but not the title "Egüzer Khutagt", under which Galsandash must surely have been better known.
The defendants were accused of having intended to invite military forces from China and Japan in order to destroy the revolutionary government and the state of Mongolia. For this reason, they had formed a resistance group and attempted to carry out such activities. In this sense, they had tried to send their own representative with a letter to the Chinese government and the Panchen Lama. The accusations were enormous. According to the political sensibilities of the people of that time, they actually only made the death penalty seem likely. Then the text of the resolution listed the "evidence" found through the interrogations of the Office of Internal Security. In fact, however, neither evidence nor even a chain of evidence was listed that would have shown the concrete guilt of the accused. The "evidence" had more the character of political accusations. Thus it says under point 2: "They have in various ways denigrated the revolutionary power of this state and slandered the party and the government, which were built up by the movement of the servants and the poor and middle-class people and their desires and aspirations, as having been built up by military force.[18]Of particular importance was certainly the "all-round slander" of the USSR, "the guiding star of the revolution of the world working class," especially since the accused were charged with seeking to weaken relations with the Soviet Union.
Finally, the third part of the court order referred to the individual defendants and the sentences imposed in concreto. In this part, it is pointed out for the first time that the sentence was determined on the basis of a "judicial code.
It should be noted at this point that the court referred to the "Judicial Code" (шүүх цаазны бичиг), which had been approved by the government and the Small State Assembly on September 23, 1929. Compared to the 1926 Code, this had a special section that set out the penalties for political crimes such as resistance to the revolution, betrayal of the state, resistance to state administration, etc.
What sentences were passed for which crimes, and on the basis of which paragraphs?
The "death by firing squad" for Taij Eregdendagva, Egüzer Khutagt, Gün Gombo-Idshin and 4 other rather insignificant persons was decided on the basis of sections 25, 31 of the general part and section 42 of the special part of the Judicial Code. While § 25 already classified the attempt to commit a criminal offense as a punishable offense, § 31 described the conditions under which a punishment had to be imposed for an offense. In other words, the decisive factor was § 42, which stipulated: "Persons who resist with the intention of attempting to form groups, to arm themselves, to destroy the administrative regime established by the Basic Law of the State, to take over some areas of the State or to usurp the government and municipal official bodies, shall be shot or, in mitigating circumstances, imprisoned for a period of not less than five years.[19]As a basis for the death sentences, it was stated that they had "initiated, carried out and led" the crime.
In the case of Luvsan and Naranjav, who, as the court stated, were "to be shot because they had actively sought the cause", the sentence was set at 10 years in prison for each of them, with reference to the fact that they were "simple-minded, poor people without political education.
Also in the case of "Manzushir gedeg Tserendorj", as the court emphasized, "although according to the law death by shooting would be appropriate", the death penalty was waived because of the remorse he showed, his insight, his commitment to party and government policies, etc. He was given a 10-year suspended sentence, with the threat of execution if he committed "another crime" within five years. Why did the court de facto release Manzushir Khutagt? One could assume that the Office of Internal Security may have needed him in some way to prepare the next major show trials against members of the Lamaist clergy. Indeed, Manzushir Khutagt remained at large until early 1937. But then he was arrested along with other great lamas in March 1937. He was sentenced to death by shooting on July 1, 1937, and shot on October 7, 1937.[20]
The court order further stipulated that in the case of those sentenced to death or to 10 years in prison, the assets were to be confiscated. Only the "necessities of life" were to be left to their family members.
From today's point of view, it seems particularly cynical that the court was able to pronounce socially sensitive sentences that were claimed to be socially sensitive. For example, Bud and Demberel each received "only" 8 years in prison, because Bud "was enslaved from his early childhood on and both were "simple-minded and poor". Manibadar, Danadar, Tüdev and Navaanjamba were sentenced "only" to 5 years in prison "because they were simple and poor". The wife of Eregdendagva was given 4 years in prison, of which, according to the court decision, one third was to be released by amnesty on the state holiday.
"Dilav gedeg Jamsranjav," or better known as Dilav Khutagt, was indeed accused in the verdict of having repeatedly participated in "counterrevolutionary actions" before that. However, the court gave him only a 2-year suspended sentence. He went to Inner Mongolia shortly thereafter as a spy for the Office of Homeland Security. It cannot therefore be ruled out that the trial in this respect also served to give Dilav Khutagt a legend.
To sum it up once again: 7 defendants were sentenced to death by shooting and 22 to prison sentences totalling 127 years. 7 defendants received suspended sentences and 2 were acquitted. Regarding the acquittals, the court emphasized: "Although there was suspicion of participation in this crime, there was no evidence.[21]
The death sentences had to be carried out within 24 hours, clemency petitions were possible, but were neither read nor positively decided. It is not worth commenting on the verdict. It is enough to quote the Soviet examining magistrate Mironenko, whom Solzhenitsyn mentions in his book "Gulag Archipelago". Mironenko said: "Investigation and trial are only the legal dressing up, they cannot change your fate, because it is predestined. If you are to be shot, then the purest innocence will not help you - you will be shot. If, on the other hand, you are to be acquitted, then you may be guilty all around - the acquittal is certain.”[22]
So be careful with the files of the Office for Internal Security!
Удо Б. Баркманн (Берлин)
Политическая подоплека и "анатомия"
шоу-процесса против тайджи Эрэгдэндагвы, Егузера Хутагта Галсандаша и др.
Научное исследование советского государственного террора в 1930-х годах почти всегда и почти неизбежно приводит к вопросу, почему этот террор вообще существовал. Это кажется бессмысленным и непредсказуемым, а потому совершенно непонятным. В конце концов, она пожирала, среди прочих, прежде всего тех людей, которые совершили революцию и считались стержнем партии. По сей день исследования не дают действительно убедительных ответов на основные вопросы. Это скорее отражает рассеянную картину. Похоже, что внимание было сосредоточено только на Сталине, который был абсолютным правителем с конкретными властными интересами, субъективными настроениями и глубоким недоверием к собственному окружению. Но мы знаем от таких правителей, как северокорейский Ким, что они тоже подчиняются внутренним и внешним влияниям и ограничениям, формируются личными и общественными событиями и осуществляются определенными группами людей. В этом отношении имеет смысл пролить свет на внутреннюю и внешнюю ситуацию конкретной страны, ее вечные и текущие интересы, политические и экономические амбиции правящего класса, если задаться вопросом о причинах террора. Сталины, Мао Цзэдуны и Ким были продуктами их социальных условий. Они пришли к власти в конкретной ситуации. Однако их деятельность часто приводила к глубокому и длительному перерыву, который иногда позволял стране идти в новом направлении развития. Например, Китаю мог понадобиться Мао Цзэдун, чтобы "китайский дракон пролил свою шкуру" и освободился от всякого иностранного влияния.
I
Политическая подоплека показательного судебного процесса
Политическая нестабильность в Сибири
Генеральный секретарь КПСС(Б) В.И. Сталин и его Политбюро во второй половине 1920-х годов поставили Монголию в центр своей силовой политики. Лучшим признаком этого стало создание "Монгольской комиссии" при Политбюро КПСС(Б). На это были веские причины, как внутренние, так и внешние. Важнейшей причиной, несомненно, было то, что стратегии безопасности как царской России, так и Советского Союза возложили на Внешнюю Монголию важную буферную функцию по защите Сибири и Транссибирской магистрали. Более того, большевики также использовали Внешнюю Монголию в качестве политико-логистической базы в 1920-х годах, чтобы спровоцировать революцию в Китае. Не следует забывать, что СССР нуждался во внешней защите Сибири прежде всего потому, что политическая власть Советов в 1920-е годы была более или менее обеспечена только в городах Сибири, где проживало всего 13 процентов сибирского населения. И даже там, в конечном счете, это было гарантировано, прежде всего, гибким, жестким военным и охранным аппаратом.
В сельскохозяйственных районах Сибири, с другой стороны, мало что изменилось. Сибирские крестьяне отвергали большевиков, а иногда даже активно сопротивлялись им. Ленинская "Новая экономическая политика", начавшаяся в 1923 году и существенно освободившая аграрный рынок, привела к увеличению посевных площадей и урожая зерна в Сибири. Животноводство также росло до 1926 года.[1]Растущее процветание сибирских сел привело к укреплению так называемых кулаков, которых КПСС(Б) определила в качестве своего главного врага в сельскохозяйственном населении Сибири. Возможно, именно по этим причинам XV съезд партии КПСС(Б) (2-19 декабря 1927 г.) принял решение о принудительной коллективизации сельского хозяйства (борьба с "кулаками") и почему Сталин предпринял расширенную инспекционную поездку в Сибирь с 15 января по 6 февраля 1928 г., чтобы стимулировать там индустриализацию (Магнитогорск). Сталин и его окружение убеждены, что крестьянское общество не только должно быть радикально изменено в социальном плане, но и Сибирь должна быть индустриализована. Короче говоря, вопрос о власти в Сибири был далек от решения в пользу большевиков. Этот факт сделал Советский Союз к востоку от Урала нестабильным и уязвимым (хрупкость сибирского общества также является тревожным фактором с российской точки зрения в сегодняшней России).
Споры с Китаем
Внешние события, особенно в Китае, также вызвали беспокойство у советского руководства. Убийство Чжан Зуолиня японскими офицерами в июне 1928 г. изменило внутренний баланс сил в Китае и укрепило правительство Гоминдана при Цзян Цзеши. Маньчжурия теперь под его правительством. С 1928 г. Цзян Цзеши поставил СССР под сильное давление "монгольского вопроса" и даже угрожал разрывом отношений. Двусторонние споры даже привели к военным столкновениям между Советской Дальневосточной армией и китайскими войсками Гоминдана, оккупировавшими Восточно-Китайскую железную дорогу в 1929 году. Иными словами, Советский Союз почувствовал, что эта разработка поставила под угрозу жизненно важные сегменты Сибири.
Кроме того, в 1928 году китайское правительство ввело торговое эмбарго в отношении Монголии. Только в 1928 г. 900 китайских торговцев не смогли пройти через пограничный переход Замын Үүд. Таким образом, Монголия оказалась отрезанной от китайского рынка, и жизненно важные товары больше не поступали на ее и без того бедный рынок. Нехватку предложения, которую сам Советский Союз не смог компенсировать, нельзя было игнорировать.[2]Настроение среди монгольского населения ухудшилось. Почти одновременно с этим правительство Гоминдана начало идти на значительные уступки монгольским князьям в пределах Монголии. Она провела перспективу общей концессии в монгольских и тибетских делах.[3]Это сигнализировало некоторым в Монголии, особенно представителям княжеского и церковного сословия, которым непосредственно угрожала экспроприация, что Китай мог бы быть для них политически лучшим выбором по сравнению с Советской Россией. Тот факт, что в 1930 году китайское правительство собрало 40.000 солдат под знаменами западного и восточного Сунидов (Šilingol Čuulgan), заставил органы безопасности Улан-Батора сделать вывод о неизбежности военного нападения на Монголию.[4]
Япония на виду
На заднем плане также скрывалось вездесущее присутствие Японии. Советы с нарастающей нервозностью отмечали, что японская секретная служба "Токумукикан", основанная в 1917 г., активизировала свою деятельность во Внутренней Монголии, а также начала распространять свои ощущения на Внешнюю Монголию. Его агенты Моричима и Какукабаши, например, прошли через все знамена шиллинговских чулганов, а также провели углубленные переговоры с влиятельным Внутреннемонгольским князем Де Ваном.[5] Де Ван был важной ключевой фигурой для японцев, и не только из-за его влияния на Внутренних монголов.Японцы знали, что Де Ван и Панчен-Лама, который жил во Внутренней Монголии, имели "связь между учеником и учителем". Высокий духовный авторитет Панчен-Ламы означал, что он также мог полагаться на невидимые сети ламаистских монастырей во Внутренней и Внешней Монголии и Тибете. Таким образом, ламаистская религия была влиятельным игроком во всем регионе, чьи сети, естественно, также пронизывали контролируемую Советским Союзом Монголию и доходили до Советской Бурятии. О степени влияния Панчен-Ламы на монголов свидетельствуют его публичные молитвы: 170.000 монголов собрались во внутримонгольских монастырях в апреле 1928 г. и 70.000 монголов в апреле 1929 г. для участия в его молитвах. Конечно же, в этих молитвах принимали участие и монголы из Монгольской Народной Республики (Внешняя Монголия). Никто не мог помешать им присутствовать. Границы были открыты. Большое влияние Панчен-Ламы на монголов (особенно на Монгольскую Народную Республику) имело особое значение и для японской спецслужбы Токумуукикан, так как она смогла дать ему возможность привести в движение его антисоветские и антикитайские панмонгольские симуляционные игры среди монголов. Однако у правительства Гоминдана также были амбициозные намерения по отношению к Панчен-Ламе в том, что касается монголов и тибетцев. Поэтому она предоставила Панчен-Ламе различные привилегии, такие как создание собственного представительства в Нанкине в 1928 году. Советские советники в Монголии в целом рассматривали ламаистскую религию, ее духовенство и монашество как "государство внутри государства", которое, по их мнению, необходимо было сдерживать и ликвидировать. ГПУ поручил своим товарищам в Монгольском Управлении Внутренней Безопасности последовательно и с высокой скоростью продвигаться в этом направлении. Особая задача Управления внутренней безопасности, несомненно, состояла в том, чтобы укрепить среду обитания Панчен-Ламы своими собственными шпионами.
Балансировочные учения "Монгольской комиссии" советского Политбюро
"Монгольская комиссия" в Политбюро КПСС(Б) получала постоянный поток информации об этих угрожающих событиях по официальным и неофициальным каналам. Она оценила информацию в аспекте 1. безопасности Сибири, 2. ее мировые революционные цели в Китае и 3. укрепление государственной власти Монгольской Народной Республики. Комиссия выразила озабоченность в связи с тем, что с 1926-1927 годов она была вынуждена зарегистрировать серьезные беспорядки в монголо-советских отношениях. Постоянный представитель СССР в Улан-Баторе П.М. Никифоров в своих докладах неоднократно отмечал, что члены монгольского руководства начинают отдаляться от него. Министр экономики А. Амар, например, вел "крайне враждебный курс по отношению к экономическим институтам СССР", сообщил он. Однако "кульминация" была достигнута, когда руководство МНРП даже отказалось направить новых инструкторов в Управление внутренней безопасности в 1926 году. Ведь Управление внутреннего развития было приложением советского ГПУ в Наркомате внутренних дел (НКВД). Эта власть была "острым мечом" Советского Союза в Монголии. Сталин и его Политбюро не были милосердны в таких вопросах власти.
Тем не менее Советский Союз был вынужден действовать осторожно в отношении Китая, поскольку он признал Внешнюю Монголию "в качестве неотъемлемой части Китайской Республики" в соглашении с Китаем в 1924 году. В этом отношении триумф представителя Коминтерна Амгаева в местном соревновании между Коминтерном и официальным представительством СССР в Улан-Баторе вполне мог быть задуман тогдашним советским партийным руководством. Руководство КПСС(Б) хотело протолкнуть новую политическую линию в Монголии с помощью Коминтерна и вновь назначенного руководства партии и государства. Однако Коммунистический Интернационал ("Коминтерн") дал большое преимущество в том, что советское государство всегда могло дистанцироваться от своей деятельности на том основании, что оно является международной организацией и просто не контролирует ее. Таким образом, дипломатические соображения по отношению к Китаю сыграли определенную роль в корректировке внутренней политики Монголии. Однако они также определили радикализм и динамику политического процесса, который Москва намерена сделать необратимым в Монголии.
Радикализация монгольского руководства
Советские советники в новом монгольском руководстве вообще не нуждались в представителях национально-демократической ориентации, но прежде всего в желающих, как можно более необразованных и политически неопытных марионетках. Представители "Земельной фракции", которую представители Коминтерна Амгаев уже давно и с мудрым предвидением поставили на место, особенно подошли для этой цели. "У них не было ни образования, ни социального престижа, но они пытались компенсировать эти недостатки радикальным левым рвением и политическими интригами".[6]
На VII съезде МНРП (23 октября - 11 декабря 1928 года) представители национально-демократической ориентации были дискредитированы как "правые", а члены "земельной фракции" были поставлены на руководящие посты. Во всех важных функциях был изменен персонал. Съезд партии также принял решение конфисковать собственность на скот, принадлежащий светским и духовным феодальным семьям и монастырям, тем самым лишив их экономической основы. Следует проводить политику уступчивости по отношению к простым ламам. Однако реинкарнация ламы rJe-btsun dam-pa и других высоких возрождений была запрещена. МНРП намеревался оказать экономическую поддержку бедным ламам в их переходе к светскому государству и жестко лишить ламаистское духовенство экономической основы своего политического и религиозного влияния. Месяцами позже, 13 июля 1929 года, Президиум ЦК МНРП принял решение о начале конфискации имущества светских и духовных феодалов, в соответствии с решением съезда партии.[7] Поскольку это решение затронуло 1.136 человек[8], следовало ожидать сопротивления. В то время как со стороны князей, в силу их низкой степени взаимосвязанности, вряд ли можно было ожидать серьезного отношения к сопротивлению, в случае с ламаистским духовенством это было совершенно иначе. Духовные сети, существующие между монастырями, открытое, влиятельное положение перерождений тюленей, их связь с Тибетом, Бурятией, Внутренней Монголией, Панчен-Ламой, даже Китаем и, возможно, Японией, заставили советских советников, действовавших на заднем плане, действовать с осторожностью. Тот факт, что А. Амар однажды указал Никифорову, что около 90 процентов самих функционеров были ламаистскими верующими, также заставил ее задуматься.[9]
Измеряя существующие угрозы, особенно чувствительны были восточный Хан Хэнтий Уулын Аймаг и южный Даригангский район с его приграничными районами, граничащими с Китаем. Военное нападение на Монгольскую Народную Республику на самом деле было возможно только с этого направления. По этой причине, с советской точки зрения, важно было ликвидировать все возможные источники сопротивления в приграничных районах. К ним относились монастыри и особенно крупные и известные монастыри, такие как монастырь Егузэр Хутагта, которые были не только духовными, но и экономическими центрами с трансграничным влиянием.
II
"Анатомия" показательного испытания
Целью Советов было обеспечение и укрепление монгольской государственной власти, которую они контролировали почти на сто процентов, в том числе и в приграничных районах. Поэтому советские советники решили привести примеры, которые сделают монгольское государство сильнее, чем оно есть на самом деле, и, прежде всего, внушат страх населению. Особенно эффективным средством для этого были показательные испытания, как в европейское средневековье, когда казни еще были большим, но и пугающим "народным удовольствием". Цель заключалась в том, чтобы раз и навсегда рассчитаться с представителями старого порядка, а также ликвидировать их влияние и трансграничные сети в Восточной Монголии.Выбор был несложным для советских советников. Они знали, чего хотят, но при этом не позволяли себе "попасться в карты". Затем они позволили арестам дать понять общественности, что они ведут расследование в другом направлении, хотя они уже давно определились с реальными целями. В данном конкретном случае были выбраны известные представители духовенства - Зая Пандита Жамбацэрэн, Егузэр Хутагт Галсандаш, Манзушир Хутагт Цэрэндорж и Дилав Хутагт, а также монгольский дипломат Гун Гомбо-Идшин, который имеет хорошие связи в тибетской иерархии. И даже среди этих людей они, по уважительной причине, выбрали неверный путь.
Суд над Зая Пандитой Жамбацэрэн.
Управление внутренней безопасности 22 октября 1929 г. арестовало Зая Пандиту Жамбацэрэн, которая, будучи шестым возрождением, была одним из чутагов с печатями и, таким образом, занимала высокое положение в ламаистской иерархии Монголии. Обвинения были отчасти очень расплывчатыми. В течение многих лет он эксплуатировал бедных, тайно сопротивлялся политике правительства, писал и распространял стихи, которые несли в себе идею пригласить Панчен-Ламу в Монголию.[10]Выставочный судебный процесс против Зая Пандиты Жамбацэрэн, длившийся всего четыре часа, состоялся 16 февраля 1930 года в здании к югу от нынешней площади Сухэ-Батор. Общественная реакция на процесс была велика, многие люди ждали суда, чтобы присутствовать на суде в качестве зрителей. Очевидцы сообщили, что особенно молодые женщины хотели участвовать, так как молодая Зая Пандида также считалась одним из самых красивых мужчин Халха.[11]Судебный процесс завершился, как и следовало ожидать, смертным приговором, который шокировал общественность и был приведен в исполнение лишь несколько дней спустя. Сегодня мы не имеем конкретных знаний общественного мнения по поводу самого показательного испытания, но можно предположить, что большинству благочестивых монголов не понравилось то, что в ее земном 25-летии была казнена печать, несущая высокое возрождение. Однако общественность, возможно, знала, что процесс поддерживался советскими советниками, с чем монголы просто не могли справиться.
"Уголовное дело 38 по Эрэгдэндагве".
Советские советники по безопасности учли такие общественные чувства при постановке большого показательного судебного процесса, который состоялся всего несколько месяцев спустя. Неизвестный верховный лама, но совершенно неизвестный тайдж Эрэгдэндагва назвал свое имя "Уголовным делом 38-ми вокруг Эрэгдэндагвы" ("Эрэгдэндагва нарын 38-н хэрэг"). Поначалу, похоже, не было главного обвиняемого, который принадлежал бы к ламаистскому духовенству. Эрэгдэндагва, главный обвиняемый, арестованный в мае 1930 года, был обвинен в том, что написал письмо правительству Китая и Панчен-Ламе от имени некоторых дворян и великих лам, в котором, как говорят, предложил сделать Монголию провинцией Китая, а Панчен-Ламу - ее религиозным лидером. Было ли это письмо подлинным или вымышленным, было ли оно отправлено или нет, не совсем ясно из имеющейся у нас информации. Дилав Хутагт, по крайней мере, сообщил, что Эрэгдэндагва якобы уже выехал в Китай на день, когда был арестован Бюро Внутренней Безопасности.
Кто была Эрэгдэндагва? Мы знаем, что он прибыл с ближайшей родины Егузера Хутагта. Они с Егузером давно знакомы. Позднее Егузер упомянул в своем допросе, что между ними существовали личные "отношения учитель-ученик". Говорят, что Эрэгдэндагва разработала "книгу для чтения" для учащихся младших классов и передала ее Министерству национального просвещения. Однако министерство отвергло его на том основании, что оно "отравит детей новых поколений старыми взглядами", что глубоко и надолго оскорбило его. Оскорбление, похоже, продолжилось. Тем не менее, Эрэгдэндагва как личность находилась в руках опытных следователей Бюро Внутренней Безопасности, как хорошо вылепленный мягкий воск. После того, как в 1927 году он присвоил деньги как клерк Министерства финансов, он был приговорен к 3 годам условно (3 жил тэнсэн харгалзах ялаар шийтгүүлсэн). Таким образом, его испытательный срок еще не истек во время тюремного заключения. Поэтому он, должно быть, оказался в крайне отчаянной ситуации. Ему было совершенно ясно, что теперь он был обвинен в серьезном контрреволюционном преступлении, за которое может быть вынесен только смертный приговор. Чтобы избежать этого, он, безусловно, был готов сделать все, что следователи требовали от него. Хотя мы не знаем наверняка, можно предположить, что список "интересных сообщников" был передан ему советскими советниками Бюро Внутренней Безопасности. Конечно, этот список был дополнен именами, которые он упоминал во время допросов. Одним из таких примеров был Тангатын Аюш, который работал с Эрэгдэндагвой ранее в министерстве финансов. Такие вопросы, как "С кем вы встречались?", были непосредственно направлены на вербовку имен, независимо от того, имели ли эти лица какое-либо отношение к обвинениям. Они автоматически становились подозреваемыми, не имея никакого отношения к "преступлению". Тот факт, что следователи хотя бы раз инсценировали Эрэгдэндагву в качестве "главы заговора", уже указывал на то, что "место преступления" связано с Хэнтий Уул Аймагом, где Егузер Хутагт и Гун Гомбо-Идшин находятся дома и ведут активную деятельность.
Аресты
Подготовительные расследования Управления внутренней безопасности, по-видимому, начались еще в 1929 году. Начальник структурного подразделения Управления Д. Лувсаншарав 23 августа 1929 года направил секретный доклад об условиях в районе Барги и Внутренней Монголии секретарю Малого государственного собрания Д. Демберелю. Правительство Гоминдана переселило в эти районы большое количество китайцев. Каждая Внутренняя монгольская семья должна была принимать по 2-3 китайца, сказано в нем. В Хайларе в то же самое время количество китайских солдат, размещенных там, казалось, значительно увеличилось. Панчен-лама, после одиннадцати дней проповеди в Вангийн-хурээ Сунида Хошуу, в сопровождении большого количества китайских солдат, продолжил свое путешествие на запад, сообщается. В конце доклада Лувсаншарав упомянул о необходимости доставить Егузэра Хутагта из неспокойного пограничного района в Улан-Батор.[12]Упомянутые в докладе факты свидетельствуют о конкретных опасностях для восточно-монгольских пограничных районов и подвергают следователей временному давлению.
В центре внимания исследователей находился монастырь "Önö Öglögt", расположенный в Эрдэнэцагаан-Уульском знамени, который был известен как монастырь Егузэра Хутагта и в котором также проживали реинкарнации Дамдина Бишрелта и Халзана Ширээта. Бюро Внутренней Безопасности посчитал чрезвычайно проблематичным большое, даже трансграничное влияние Егузэра Хутагта на регион. Егузэр, похоже, подтвердил это впечатление во время допросов. В протоколе допроса говорится: "Кого вы знаете о князьях Барги и Внутренней Монголии? Ответ: Я с трудом могу сосчитать людей, которых знаю о князьях Барга и Внутренней Монголии. Князья баруунских знамен Хуучид и Уземчин я знаю почти всех. Было много раз, когда я обменивался письмами и подарками с Хутагтами городов". На 11-й вопрос: "Когда ты общался с Панченом (ламой)?" Егузэр ответил: "Не так давно я общался с Панченом". Ответы дали понять, какое влияние на самом деле оказала позиция Егузэра Хутагта в приграничном регионе. Но были ли они действительно ответами Егузэра? Кроме того, было, конечно, небезосновательно, что Егузэр был удостоен императором Маньчжу в 1902 году титула "Хутагт Хамба" и нефритовой печати и в 1913 году был назначен Богданом Гегене министром по делам юго-восточных приграничных регионов. В конце 1915 года Егузэр даже был взят в заложники китайскими войсками. Он должен был быть отозван китайским правительством от имени правительства Богда-Гегеена из Сэцэн-Хан Навааннэрээн. Были истории об Егузэре, которые укрепили его репутацию в обществе. О его монастыре существовало много легенд, которым Ли-фань-юань в 1787 году от имени маньчжурского императора дала почетное имя "Önö Öglögt Süm".
Управление внутренней безопасности начало с арестов в мае 1930 года. Первой жертвой стал сам Эрэгдэндагва, который был немедленно подвергнут массированному допросу. По имеющейся у нас неполной информации, к концу июля 1930 года было арестовано не менее 20 человек, которые в катастрофических условиях содержались в специальной тюрьме Управления Внутренней Безопасности. Это означает, что остальные подозреваемые были арестованы в августе 1930 года. Глядя на первые обвинения, некоторые вещи кажутся почти непонятными из-за банальности. Но у следователей также были "условия плана". Поэтому они арестовали определенное число людей из района Эрэгдэндагвы. Они проецировали сценарий "заговора" на заявления только в ходе расследования. Некоторые из арестованных, например, Бурчанч Лама Дамдин, выполняли "функцию петли", которая впервые установила "заговорщицкие" отношения с Егузэром Хутагтом. Поразительно, что работа следователей никоим образом не напоминает криминалистический подход, а скорее напоминает об инквизиторах. Как во время допросов, так и во время судебного разбирательства вопросы были сформулированы внушительно. Цель заключалась не в том, чтобы реконструировать ход событий криминологическими методами, а в том, чтобы быстро признать свою политическую и иную вину. В стенограммах также отражены внутренние переживания опрашиваемых. Два примера из допроса Гомбо-Идшина: "Вопрос: Какое преступление, по-вашему, вы совершили? Ответ: Я знал человека, который совершил преступление, связанное с политикой, и не сообщал об этом властям... Вопрос: Поддерживаете ли Вы решения 7-го и 8-го съездов партии? Ответ: "Я поддерживаю резолюции 7-го съезда партии. "Хотя я не видел резолюцию 8-й Конвенции, я ее поддерживаю."[13]
Арест Егузэра Хутагта
Управление внутренней безопасности не арестовало Егузэра Хутагта, как другого обвиняемого. Высокая репутация Егузэра в его приграничном регионе не позволяла совершать такие неуклюжие действия. Надо было ожидать протестов и, возможно, даже волнений среди приграничного населения.Поэтому канцелярия поручила секретарю Малого государственного собрания Л. Дэмбэрэлю отправиться в свой монастырь и пригласить его в Улан-Батор "из-за волнений в приграничной полосе". На месте Дэмбэрэл, за которым стоял всегда спокойно улыбающийся советский советник Канаев, даже предложил Егузэру поселиться в Улан-Баторе во дворце покойного Богда-Гэгээна и общаться там с верующими.[14]Приглашение было сформулировано очень категорично. Так Егузэр отправился в Улан-Батор вместе с Дэмбэрэлем и сопровождающими лицами из Управления Внутренней Безопасности. Прибыв туда, он был задержан в одном из объектов Управления Внутренней Безопасности, но не заперт. Не исключено, что сначала ему предлагали выступить в качестве свидетеля только на важном судебном процессе. Тот факт, что Управление Внутренней Безопасности могло просто поручить эту задачу секретарю Малого Госсобрания, показал как его позицию, так и бессилие монгольских государственных органов, контролируемых Советским Союзом. Вскоре начались первые допросы, которые вели советские советники Борисов и Цедыпов и монгол Галиндев. Допросы по-прежнему представлялись как "неформальная беседа", хотя вопросы уже были сформулированы очень категорично. Разумеется, Егузэр вскоре понял, в каком направлении следователи пытались его подтолкнуть.
Гомбо-Идшин
Другой важной фигурой в следственной загадке советских советников был, несомненно, Гун Гомбо-Идшин, который сам был тайжем из "золотого клана" Чингис Хана (алтан ураг). В 1913-1919 гг. он был одним из важнейших чиновников в Военном министерстве правительства Богда-Гэгээна. После формирования Народного правительства в 1921 г. работал "Министром по набору солдат для умиротворения восточных границ", а в 1922-1924 гг. - Министром по умиротворению границ в Ховде. В 1921 году Д. Догсом работал на его стороне, которая теперь предстала перед ним в суде 1930 года в качестве члена суда. После работы в министерстве юстиции и иностранных дел в декабре 1925 года Гомбо-Идшин был назначен послом Монголии в Тибете, где прослужил с сентября 1926 года по октябрь 1927 года. Годом позже, осенью 1928 года, УправлениеВнутренней Безопасности заключило Гомбо-Идшина под стражу. Его обвинили в том, что он участвовал в усилиях по "реинкарнации 9-го болота". Весной или летом 1929 года он был приговорен к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения. Это означает, что, возможно, он все еще находился в тюрьме, когда его также обвинили в участии в "Преступлениях тайджи Эрэгдэндагвы". Что, кстати, в то время было довольно распространенной процедурой!
По имеющейся у нас неполной информации, более половины арестов было произведено в период с мая по июль 1930 года, остальные - в августе, т.е. незадолго до суда. Поскольку характер судебного решения в любом случае был ясен советникам, они больше не нуждались в длительном подробном допросе до начала судебного разбирательства.
Судебное разбирательство
Согласно тексту решения, вынесенного 28 сентября, судебное разбирательство началось 15 сентября 1930 года.[15]Дилав Хутагт, с другой стороны, указал в своих мемуарах, что в каждый день судебного разбирательства допрашивались двое обвиняемых, что при наличии 38 обвиняемых предполагает испытательный срок в 19 дней. Суд был подготовлен в пропагандистской манере. Плакаты, выставленные в Улан-Баторе, называли заседание суда событием политического значения, которое должно было пройти публично в "Месте общественного наслаждения" (ардын цэнгэддэх газар). Выбранное месторасположение давало основания ожидать высокого уровня участия заинтересованных лиц.Здание суда" было окружено плотным кордоном вооруженных солдат. Из воспоминаний Дилава Хутагт известно, что в начале судебного процесса появились такие политические деятели, как премьер-министр К. Жигжиджав, председатель партии П. Гэндэн, начальник Управление Внутренней Безопасности Б.-О. Элдэв-Очир, военный министр Г. Дэмид и начальник отдела ЦК МНРП Д. Лувсаншарав, что придало судебному процессу особое значение.[16]Судебный процесс проводил некий Менд, в состав суда входили Олзийбат, Амар, Догсом и Эрендаваа. Джадамсурэн работал государственным обвинителем. В качестве прокуроров выступали Цэндсурен и Чулуунбат. Чтобы сохранить лицо судебного заседания, в нем также приняли участие пять адвокатов. Советские советники не отказались от самодовольного психологического расчета. Новые высокопоставленные чиновники из "земельной фракции" сидели расслабленно в первом ряду, когда всех встречали зрители, в то время как такие люди, как Амар и Догсом, которые только что политически выпали из поля зрения как "права", сидели в президиуме в качестве членов суда. Оба понимали, что в этом качестве они должны были согласиться на смертные приговоры и тяжелые сроки тюремного заключения для невинных людей. Однако и те, и другие понимали, что их дальнейшая политическая карьера и, возможно, даже физическое выживание зависят от того, чтобы не ошибиться в этой фатальной ситуации. Их последующая жизнь ясно показала, за что они в конце концов решились.
Мы мало что знаем о людях, которые должны были "отправить правосудие" в этом процессе. Поскольку имена соответствующих лиц были названы без имени их отца, их определение является трудным. Дело в том, что ни один из членов суда не требовал юридических знаний. Судебный процесс был политическим процессом, результат которого уже был определен советскими советниками. В этом отношении биография так называемого "государственного обвинителя" могла бы быть достаточной, чтобы дать представление о некомпетентности суда. Государственным обвинителем" был некий "Ядамсурэн", который, по-видимому, уже был членом суда в процессе над Заяей Пандитой Жамбацэрэн. Это будет Моогний Ядамсурэн, который стал председателем Верховного суда с апреля 1930 года, ранее работавший клерком, консультантом и секретарем правительства. Но не исключено, что именно Дендевийн Джадамсурэн в то время был уполномоченным по вопросам, касающимся монастырей и лам в Хан Хэнтий Уул Аймаге и уполномоченным представителем Министерства внутренних дел в Аймаге. У обоих было одно общее. Они не знали закона, но "государственный обвинитель" должен был отличаться, прежде всего, радикальной политической непримиримостью, а не знанием закона. Несколько лет спустя, кстати, оба они сами стали жертвами террора.
Почти весь ход судебного разбирательства сопровождался пропагандистскими кампаниями с требованием сурового наказания обвиняемых. 14 сентября 1930 г. к этому призывали члены ячейки МНРП и РСММ 4-го Хороо, а также полицейские Улан-Батора, 15 сентября - командиры и политработники казарм Красной Армии в Улан-Баторе, а также солдатские собрания солдат. 16 сентября последовало совещание по проблемам городской бедности, 17 сентября - совещание пионеров, а 21 сентября - совещание членов МНРП и РСММ Улан-Баторского металлургического комбината. Тот факт, что наряду с пионерами дети также подвергались жестокому обращению в ходе этих кампаний, отражает всю безнравственность судебного сценария.
Судебный допрос Егузэра Хутагта
16 сентября суд заслушал Егузэра Хутагта. Вопросы касались Эрэгдэндагвы и его "преступлений", а также того, в какой степени Егузэр знал о них. Егузэр отрицал всякое соучастие. Другие вопросы касались его отношений с князьями Барга и Внутренней Монголии, а также с Панчен-Ламой, Унгерн-Штернбергом и какие отношения он будет иметь с Китаем. Как часто он бывал в Китае и получал ли он подарки из Китая? Большинство вопросов, однако, пытались понять его политическое отношение. В данном случае достаточно привести следующие цитаты из судебной выписки: "14-й вопрос: что Вы думаете о конфискации феодального имущества? Ответ: Я считаю конфискацию феодальной собственности хорошей. Вопрос 15: Как Вы относились к конфискации собственного имущества? Ответ: Я с удовольствием конфисковал имущество... 19-й вопрос: Нынешнее правительство - это правительство, которое защищает чьи интересы? Ответ: Хотя я не знаю точно, чьи интересы защищает правительство, скорее всего, это будет правительство, защищающее общественные интересы. 20-ый вопрос: Считаете ли Вы правительство предыдущей автономии и маньчжурского периода хорошим или плохим правительством? Точно так же, было ли правительство того времени правительством, защищающим чьи интересы?
Ответ: Я не знаю, были ли маньчжурные или автономные правительства плохими или хорошими. Они пошли на дно, потому что не смогли сделать ничего упорядоченного и не смогли отрегулировать состояние. Но работа принцев была не очень хороша. 21 вопрос: Каково Ваше мнение о независимости Монголии? Ответ: Хорошо, что Монголия стала независимой. Хотя я не очень хорошо знаю, чью выгоду защищает правительство, я думаю, что это правительство защищает общественную выгоду... 29-й вопрос: Что бы Вы сказали о правительстве Китая и о правительстве России? Ответ: Я слышал, что это совсем другое. Однако она (Китай) еще не достигла правительственной стабильности. Однако мне кажется, что в России есть правительство, похожее на наше. Я не знаю, стало это или нет, люди узнают".[17]Из ответов Эгюзера можно было сделать вывод, что он не хотел инкриминировать себя, но он также не был готов согласиться с суггестивными политическими установками вопрошающих. Но откуда у нас уверенность в том, что эти минуты действительно отражают сказанное?
Решение суда
Суд огласил свое решение "по уголовному делу 38 лиц с такими выдающимися личностями, как виновные Эрэгдэндагва и Галсандаш" 28 сентября 1930 года "от имени Монгольской Народной Республики". В то время как изначально только Эрэгдэндагва дал свое имя уголовному делу, было добавлено имя Галсандаш (улс төрийн хүнд холбогдол бүхий ялт Эрэгдэндагва, Галсандаш нарын зэрэг зэрэг нэр бүхий 38 тооны хүмүүс). Примечательно, что использовалось только название Галсандаш, но не название " Егузэр Хутагт", под которым Галсандаш, вероятно, был более известен.
Подсудимых обвинили в том, что они намеревались пригласить вооруженные силы из Китая и Японии, чтобы уничтожить революционное правительство и государство Монголия. По этой причине они сформировали группу сопротивления и предприняли попытку осуществления такой деятельности. В этом смысле они пытались послать своего представителя с письмом к китайскому правительству и Панчен-Ламе. Обвинения были огромны. В соответствии с политическими чувствами тогдашнего народа, они на самом деле только делали возможным применение смертной казни. Затем в тексте резолюции были перечислены "доказательства", найденные в ходе допросов, проведенных Управлением внутренней безопасности. Однако на самом деле не было приведено ни доказательств, ни даже цепочки доказательств, которые бы свидетельствовали о конкретной вине обвиняемого. Доказательства" имели скорее характер политических обвинений. Например, в пункте 2 сказано: "Они по-разному очернили революционную власть этого государства и оклеветали партию и правительство, которые были построены движением слуг и бедных и среднего класса, и их желания и устремления, как построенные военной силой".[18]Особое значение, безусловно, имела "круговая клевета" СССР, "путеводная звезда революции мирового рабочего класса", тем более, что обвиняемых обвиняли в стремлении ослабить отношения с Советским Союзом.
Наконец, третья часть постановления суда касалась отдельных обвиняемых и приговоров, вынесенных конкретно. В этой части впервые указывается, что приговор был вынесен на основании "судебного кодекса".
Здесь следует отметить, что суд сослался на "Судебный кодекс" (шүүх цаазны бичиг), который был одобрен правительством и Малой государственной ассамблеей 23 сентября 1929 года. По сравнению с Кодексом 1926 года, в последнем имелся специальный раздел, в котором устанавливались наказания за политические преступления, такие как сопротивление революции, измена государству, сопротивление государственному управлению и т.д.
Какие приговоры были вынесены за какие преступления, на основании каких пунктов?
Смерть от расстрела" для тайджи Эрэгдэндагвы, Егузэра Хутагта, Гуна Гомбо-Идшина и 4 других довольно незначительных лиц была решена на основании статей 25, 31 общей части и 42 специальной части Судебного кодекса. В то время как в § 25 попытка совершения уголовного преступления уже классифицируется как наказуемое правонарушение, в § 31 описаны условия, при которых за совершение преступления должно быть назначено наказание. То есть, решающим фактором был § 42, в котором было предусмотрено, что "лица, которые сопротивляются с намерением попытаться сформировать группы, вооружиться, разрушить административный режим, установленный Основным законом государства, захватить некоторые районы государства или узурпировать правительство и местные официальные органы, будут расстреляны или, при смягчающих обстоятельствах, подвергнуты тюремному заключению на срок не менее пяти лет".[19]В качестве основания для вынесения смертных приговоров было указано, что они "инициировали, осуществили и возглавили" это преступление.
В случае Лувсана и Наранжава, которые, как заявил суд, "должны были быть расстреляны, потому что они активно искали причины", приговор был назначен на 10 лет лишения свободы для каждого из них, со ссылкой на то, что они были "простодушными, бедными людьми без политического образования".
Также в деле "Манзушир гэдэг Цэрэндорж", как подчеркнул суд, "хотя по закону смертная казнь путем расстрела была бы уместна", смертная казнь была отменена из-за его раскаяния, его проницательности, его приверженности политике партии и правительства, и т.д. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы условно с угрозой исполнения приговора, если в течение пяти лет он совершит "другое преступление". Почему суд де-факто освободил Манзушира Хутагта? Можно предположить, что Управление внутренней безопасности, возможно, каким-то образом нуждалось в нем для подготовки следующих крупных показательных судебных процессов против представителей ламаистского духовенства. Фактически, Манзушир Хутагт оставался на свободе до начала 1937 года. Но затем он был арестован вместе с другими великими ламами в марте 1937 года. Он был приговорен к смертной казни путем расстрела 1 июля 1937 года и расстрелян 7 октября 1937 года.[20]
В решении суда также предусматривалось, что в случае лиц, приговоренных к смертной казни или 10 годам лишения свободы, имущество подлежит конфискации. Члены их семей должны были остаться только с "предметами первой необходимости".
С сегодняшней точки зрения кажется особенно циничным, что суд выносил социально чуткие приговоры. Таким образом, Буд и Дэмбэрэл получили "всего" по 8 лет тюрьмы, потому что Буд "был порабощен с раннего детства и оба были "простыми и бедными". Манибадар, Данадар, Тудэв и Наваанжамба были приговорены "только" к 5 годам тюремного заключения, "потому что они были простыми и бедными". Жена Эрэгдендагвы была приговорена к 4 годам лишения свободы, из которых, согласно решению суда, треть должна была быть освобождена по амнистии в государственный праздник.
"Дилав гэдэг Джамсранджав", или более известный как Дилав Хутагт, был обвинен в том, что до этого неоднократно участвовал в "контрреволюционных действиях". Однако суд назначил ему условное наказание всего на 2 года. Вскоре после этого он отправился во Внутреннюю Монголию в качестве шпиона Бюро внутренней безопасности. Поэтому нельзя исключать того, что судебный процесс в этом отношении также послужил для Дилава Чутага легендой.
Подведем итоги еще раз: 7 обвиняемых были приговорены к смертной казни в результате перестрелки, а 22 - к тюремному заключению на общую сумму 127 лет. 7 обвиняемых получили условные приговоры, а 2 были оправданы. В отношении оправдательных приговоров суд подчеркнул: "Несмотря на наличие подозрений в участии в этом преступлении, доказательств нет".[21]
Смертные приговоры должны были быть приведены в исполнение в течение 24 часов. Ходатайства о смягчении наказания были возможны, но не были ни прочитаны, ни положительно решены. Не стоит комментировать вердикт. Достаточно привести слова советского следственного судьи Мироненко, о котором Солженицын упоминает в своей книге "Архипелаг ГУЛАГ". Мироненко сказал: "Следствие и суд - это только юридическое прикрытие, они не могут изменить вашу судьбу, потому что она предопределена". Если вас расстреляют, то чистейшая невинность вам не поможет - вас расстреляют. Если же, с другой стороны, они должны быть оправданы, то они могут быть повинны повсюду - оправдательный приговор очевиден."[22]
Так что будьте осторожны с файлами Управления Внутренней Безопасности!
[1] D. Dahlmann, Sibirien vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn 2009, p. 241-242.
[2] С. Энхжин, Монгол Төрийн Эрдэмт Сайд Агданбуугийн Амар, Улаанбаатар 2016, p. 42.
[3] Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei, Bonn 1999, p. 285-286.
[4] Д. Авирмэд, Дүрвэх хөдөлгөөн ба Улсыг Аюулаас Хамгаалах Байгууллага 1930-1934 он, Улаанбаатар 2012, p. 16.
[5] Д. Зоригт, Дэ Ван, Улаанбаатар 2009, p. 41.
[6] Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei, Bonn 1999, p. 276.
[7] Монгол Ардын Хувьсгалт Намын Түүхэнд Холбогдох Баримт Бичгүүд 1920-1940, Нэгдүгээр дэвтэр, Улаанбаатар 1966, p. 272.
[8] С. Пүрэвжав. Д. Дашжамц, БНМАУ-ын Сүм, Хийд Лам Нарын Асуудлыг Шийдвэрлэсэн нь 1921-1940, Улаанбаатар 1965, p. 119.
[9] Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei, Bonn 1999, p. 275.
[10] С.Л. Кузьмин, Ж. Оюунчимэг, Социализмын эсрэг 1932 оны Монгол дахь бослого, Улаанбаатар 2014, p. 24.
[11] Д. Одмаа, Цаазаар авсан хойноо толгойг нь тасдаж байжээ, Өдрийн Сонин, 02.08.2010.
[12] Г. Мягмарсамбуу, Лаварын Дэмбэрэл 1891-1938, Улаанбаатар 2008, p. 74.
[13] Д. Гомбосүрэн, Хичээнгүй Баатар Лхасүрэнгийн Гомбо-Идшин 1862-1930, Улаанбаатар 2005, p. 88-92.
[14] Г. Мягмарсамбуу, Лаварын Дэмбэрэл 1891-1938, Улаанбаатар 2008, p. 74-75.
[15] Тайж Эрэгдэндагва, Егзөр Хутагт нарын хувьсгалын эсэргүү хэргийг таслан шийтгэсэн тогоол, Б.Н.М.А.У. ХөрөнгтнийБиш Хөгжлийн Төлөө Тэмцэлд. Баримт Бичгүүд (1925-194), Улаанбаатар 1956, p. 122-125.
[16] Дилав Хутагтай Эчнээ Ярилцахуйд, Засгийн Газрын Мэдээ, 1993.06.08.
[17] Д. Цогт-Очир, Хэлмэгдсэн Егүзэр Хутагт Ж. Галсандаш, УАБХЭГ-ын төв архиваас хэвлүүлэв 1992, p. 26-29.
[18] Тайж Эрэгдэндагва, Егзөр Хутагт нарын хувьсгалын эсэргүү хэргийг таслан шийтгэсэн тогоол, Б.Н.М.А.У. ХөрөнгтнийБиш Хөгжлийн Төлөө Тэмцэлд. Баримт Бичгүүд (1925-194), Улаанбаатар 1956, p 122-123.
[19] Д. Адьяабазар, Монгол Улсын 1921 Оноос Хойшхи Эрүүгийн Хууль Тогтоомжийн Хөгжилт, I-дэвтэр, Улаанбаатар хот 1998, p. 45.
[20] Д. Эрдэнэбат, Манзушир Хуьагт Цэрэндорж, Өнөөдөр, 26.12.2011.
[21] Тайж Эрэгдэндагва, Егзөр Хутагт нарын хувьсгалын эсэргүү хэргийг таслан шийтгэсэн тогоол, Б.Н.М.А.У. ХөрөнгтнийБиш Хөгжлийн Төлөө Тэмцэлд. Баримт Бичгүүд (1925-194), Улаанбаатар 1956, p. 125.
[22] Alexander Solschenizyn, Der Archipel Gulag, 1973 Bern, p. 147.
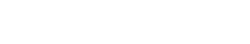





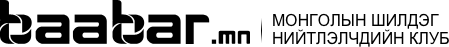
санжаа